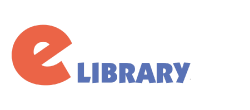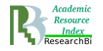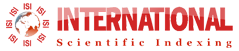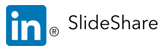Постановка проблемы. Для русских художников-модернистов, ощутивших необходимость выстоять под напором хаоса, который размывал «песчаные обрывы материка истории и культуры», и вновь стать «сынами гармонии», особенно значимым становится поиск единомышленников среди поэтов европейского романтизма рубежа XVIII-XIX вв., выдвинувших в качестве идеала «преодоление противоположностей, стремление к синтезу… разума и чувства, сознания и бессознательного, природы и духа, личности и общества, особенного и всеобщего, посюстороннего и потустороннего» [10, с. 364]. Гумилевские современники-символисты, как правило, избирают в качестве ориентира романтизм немецкий с его специфическими представлениями о совмещении противоположностей и достижении абсолютной гармонии и красоты, которые нашли отражение в мотивах призрачности конечной земной действительности и «возвращения» в истинный бесконечный мир. Для Гумилева же, стремящегося к «большему равновесию сил», более близким оказывается тот способ гармонизации хаоса, который был предложен и опробован старшими английскими романтиками, в чьих построениях «идея в форме духовности или субъективности» не перевешивала «природную чувственную форму» [13, с. 436]. У Гумилева роль образа огня как важного звена в цепи художественно-онтологических процессов прослеживается практически во все периоды творчества. В отличие от современников-символистов (в чьих текстах сгорание в основном рассматривается либо в качестве некой «безумной», бесконечной «игры», неспособной утолить желание быть «сожженными» (и вывести из бытия), либо как «страшный рубеж» – средство умерщвления лирического героя и уничтожения мира), в гумилевских произведениях смерть в огне становится и средством творения новых реальностей, и путем проникновения в них лирических героев.
Анализ последних исследований и публикаций. Авторы современных исследований опираются, как правило, в своих выводах на тезисы фундаментального гумилевоведения. В.С. Малых пишет об архетипе Огня как об основе, образующей в творчестве Н. Гумилева «своеобразную философию огня», как о «генераторе сюжетов и образов [10, с. 171], А.И. Башук – о характерных чертах «стихии огня», автор также описывает «глаголы и прилагательные, которыми данная стихия активизируется» [2, с. 9]. В сферу внимания ученых попадает и эволюция образа огня как одного из центральных системообразующих элементов в лирике символистов. Т.Н. Скок рассматривает огонь К. Бальмонта в тесном взаимодействии с другими природными стихиями сначала с точки зрения их антагонизма, потом сквозь призму их «согласия». Исследователь доказывает в своих трудах, что «долгожданное слияние космических стихий с миром души станет возможным» [12, с. 127]. При этом исследователями не предпринимаются попытки проанализировать функции образа огня в творческих исканиях представителей разных течений русского модернизма. Вместе с тем авторы не пытаются выявить схожие атрибуты образа огня Н. Гумилева и его современников-символистов равно как и проанализировать противостояние несхожих интерпретаций «гаснущего пламени» символистов и «нескончаемого сверкания» Н. Гумилева, их разную сущность и природу, разные функции и разнонаправленные векторы развития и результата.
Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Как правило, образ огня, возникающий в гумилевских текстах, анализируется в контексте взаимодействия поэта с духовными исканиями его современников-символистов или же в русле библейской традиции вне всякой связи с важными для Гумилева идеями равновесия, синтеза, инобытия. Однако при сопоставительном анализе гумилевского «пламени» с образами огня, пламени, костра, созданными русскими символистами, а также при тщательном соотнесении «огня» Гумилева с образами Ветхого и Нового Заветов выясняется, что традиционные трактовки не являются столь несомненными.
Цель статьи. Цель данного исследования состоит в выявлении концептуально-значимых схождений/расхождений функций образа огня Н. Гумилева с соответствующими художественными воплощениями в произведениях русских модернистов и символистов.
Изложение основного материала.
Огонь, в котором возникают и исчезают миры и в котором сгорают и возрождаются лирические герои, становится в художественных построениях русского поэта-акмеиста неотъемлемым элементом данных и новых реальностей.
В поэтической системе Н. Гумилева особое значение образ огня получает уже в самых ранних произведениях «Пути конквистадоров». Здесь впервые звучат и восхищение его «красивой яркостью» (Гумилев [6, с. 82]), и желание быть «сожженным»:
О миг, не будь бессильно плоским,
Но опали, сожги меня
И будь великим отголоском
Веками ждущего Огня.
Гумилев [6, с. 87].
Здесь же впервые происходит и непосредственное столкновение пламени и лирического героя:
Лазурных глаз не потупляя,
Она идет, сомкнув уста,
Как дева пламенного рая,
Как солнца юная мечта.
Гумилев [6, с. 47].
И хотя на этом начальном этапе своего пути гумилевский герой к встрече с первой «созданной из огня» оказывается неготовым:
Он видит деву, блеск огнистый
В его очах пред ней потух.
Гумилев [6, с. 48],
смущение, в которое повергает его «пламенное» создание, превращается в точку отсчета в неудержимом стремлении к слиянию с вожделенной огненной стихией. А строки о «палящем зареве мечты» (Гумилев [6, с. 48]), в котором «горит» и сам царь, потерявший «деву солнца», и его мир, становятся своеобразным прологом к огненным смерчам и кострам из «Завещания» и «Лесного пожара», «Больной земли», «Открытия Америки», «Природы», из текстов «Шатра» и «Огненного столпа».
Такая направленность гумилевских художественных исканий не была удивительным явлением. Ожидание всесожигающего огня, будь то пламя, о котором сказано в Евангелии от Луки: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся» (XII, 49) [4], [5], или же знамения антихриста [14];. «невидимый запредельный свет горы Фавор» [17, с. 367] или «злое пламя земного огня» [15, с. 61], составляло средоточие русских эсхатологических настроений конца XIX – начала XX веков.
«Мы всегда окружены бесконечным миром, для которого мы закрыты. <…> И нужно, чтобы огонь сошел с неба, чтобы расплавить затверделость нашего обыденного сознания. <…> Нужна катастрофа сознания, чтобы раскрылись нам целые миры. Огонь духовной лавы должен расплавить наше сознание. <…> Откровение есть огонь, исходящий от божественного мира, опаляющий нашу душу, расплавляющий наше сознание, сметающий его границы», – убеждает современников Н. Бердяев. О «воспламеняющей, очищающей и перерождающей силе религиозного огня, первая искра которого зажигается в отдельных душах, но который разгорается потом во всемирно исторический костер», – пишет С. Булгаков.
Гораздо более осязаемым, чем катастрофы в сфере духа или «отдельные лучи и отблески божественного мира», проникающие в земную действительность [14, с. 111], пламя предстает в декларациях поэтов русского модернизма, воспевавших огонь и огненную стихию. Так, у Ф. Сологуба звучит призыв к «огненному крещению»:
Стремленье гордое храня,
Ты должен тяжесть побороть,
Не отвращайся от огня,
Сжигающего плоть…
И как же к цели ты дойдешь,
Когда не смеешь ты гореть?
Сологуб [16, с. 177].
В произведениях К. Бальмонта огонь возникает и в качестве предмета поклонения –
Молиться пламени сознанье не устало,
И для блестящего мне служат ритуала
Уста горячие, и солнце, и вулкан.
Бальмонт [1, с. 323],
и в образе «пожара беспредельного» («И плыли они без конца, без конца…»), и как «страшный рубеж» («Лесной пожар») и «огонь очистительный» («Гимн Огню»), наконец, как «предвещанье» гибели:
Я окружен огнем кольцеобразным,
Он близится, я к смерти присужден…
<…> Я гибну. Пусть.
Бальмонт [1, с. 213].
В творчестве поэтов-символистов эта последняя функция являлась, пожалуй, наиболее распространенной, проявляясь в своих многообразных вариантах в построениях художников и старшего, и младшего поколений. И если сначала поэтами предрекалась гибель отдельного человека, бессильного каким-либо образом противостоять стихии огня, как, например, в приведенном бальмонтовском фрагменте, а также в следующих строках Ф. Сологуба –
Уж демон вихрей реет грозно,
Свинцовой тучей облачен,
И облака, что плыли розно,
К себе зовет зарницей он.
Он налетит, гремя громами,
Он башни гордые снесет,
Молниеносными очами
Твою лачугу он сожжет.
Сологуб [16, с. 23],
– то со временем модернистское пламя разгорается все сильнее, захватывая все более обширные области художественного бытия. И вот уже у Бальмонта звучит мысль не об индивидуальном горении, но о набирающем силу неком всемирно-космогоническом огне –
И в страшных кратерах – молитвенные взрывы;
Качаясь в пропастях, рождаются на дне
Колосья пламени, чудовищно-красивы,
И вдруг взметаются пылающие нивы,
Устав скрывать свой блеск в могучей глубине.
Бальмонт [1, с. 323]
– который способен распространиться уже на все мироздание: «О, да, мне нравится, что бело так и ало / Горенье вечное земных и горних стран <…>».
А у Ф. Сологуба с огнем связываются представления о радикальном изменении мира:
Но будет свергнут Змий жестокий,
Сожжется новым Солнцем тьма
И будет этот мир широкий
Свободный дом, а не тюрьма!
Сологуб [16, с. 112].
При этом истинный характер происходящих перемен поясняет, например, следующее стихотворение:
Как-то весело мне,
Что и весь я в огне.
Это кровь моя тает
И горит да играет <…>
Вот заря догорела,
Мне смотреть надоело.
Я глаза затворил,
Я весь мир погасил.
Сологуб [16, с. 82].
Весь спектр практически одновременно переживаемых событий – от религиозно-перерождающего воспламенения мира до его полного исчезновения в огне – можно проследить и в художественно-теоретическом опыте А. Белого. Так, в его «Апокалипсисе в русской поэзии» звучит радостное предчувствие: «Сорвана вуаль с мира – и эти фабрики, люди, растения исчезнут; мир, как спящая красавица, проснется к цельности, тряхнет жемчуговым кокошником; лик вспыхнет зарею; глаза – как лазурь; ланиты – как снеговые тучки; уста – огонь. <…> Черные тучи, занавесившие ее, будут пробиты ее лучами; они вспыхнут огнем и кровью» [3, с. 334]. А в «Закатах», относящихся к тому же, что и статья, периоду в творчестве поэта, мрачными красками выписывается картина не воспламенившегося, но уже «догорающего» мира:
Уставший мир в покое засыпает,
и впереди
весны давно никто не ожидает,
И ты не жди.
Нет ничего… И ничего не будет
И ты умрешь…
Исчезнет мир…
Белый [3, с. 26].
Как и у Сологуба, так и у Бальмонта, гибель и лирического героя, и всего мира становится неизбежной в той части поэтической вселенной Белого, где властвует огонь. Его мир «сгорает», фактически, в каждом из последовавших за «Закатами» текстов «Золота в лазури»: «Пожаром закат златомирный пылает…» (Белый, [3, с. 28]); «Задумчивый мир напоило немеркнущим светом / великое солнце в печали янтарно-закатной»; «Вселенная гаснет… Лицо приложив восковое / к холодным ногам, обнимая руками колени…» (Белый, [3, с. 39]); «Прощальным сном, нетленною мечтой / погас огонь небесно-золотой» (Белый, [3, с. 40]).
При этом почти все, что поэт говорит об огне как о единственном пути, который открылся перед человечеством, о том, как «всемирный огонь подожжет пространства», и о «жертве», которая должна быть принесена огню – «Ах, лазурью очей / я омою вас всех. / Белизною моей / Успокою ваш огненный грех» (Белый, [3, с. 34]), – перекликается с положениями раннегумилевской поэтической философии. В качестве примеров здесь можно привести такие стихотворения, как «Осенняя песня», «Иногда я бываю печален», «Дева Солнца», где мы видим и ожидание некой предшествующей свету «жертвы» – «Жертвой будь голубой, предрассветной… / В темных безднах беззвучно сгори…»; и желание «всемирного горения»: «Если хочешь, чтоб горные выси / Загорелись в полуночной мгле» (Гумилев [6, с. 72]). Да и явление самой гумилевской «огненной» девы оказывается очень близким к провиденциальным строкам Белого (и тем самым к эсхатологическим построениям Вл. Соловьева):
| В ее улыбке была заря. В движеньях тела – аромат зеленого луга. Складки ее туники, точно журча, бились пенными струями <…> Сквозь огонь улетала в прохладу, но лицо ее, осененное Духом, мерцало холодным огнем – <…> тихое, бессмертное лицо ее.
Белый [3, с. 329].
|
Одежды легкие, простые
Покрыли матовость плечей, И нежит кудри золотые Венок из солнечных лучей.
Она идет стопой воздушной, Глаза безмерно глубоки, Она вплетает простодушно В венок степные васильки. Гумилев [6, с. 47]. |
Гумилевские мысли оказываются созвучными также и тому, что писал об огне Бальмонт:
| Огонь очистительный,
Огонь роковой, Красивый, властительный, Блестящий, живой! Бесшумный в мерцаньи церковной свечи Многошумный в пожаре, Глухой для мольбы, многоликий, Многоцветный при гибели зданий. Проворный, веселый и страстный, Так победно-прекрасный… Бальмонт [1, с. 158]. |
И красивую яркость огня
Я скорее живой назову, Чем седую, больную траву, Чем тебя и меня…
Он всегда устремляется ввысь, Обращается в радостный дым, И столетья над ним пронеслись, Золотым и всегда молодым… Гумилев [6, с. 82]. |
А настойчивый призыв быть сожженными в «спасительном» огне, чтобы стать «иными», прозвучавший в «Северном Радже», отнюдь не диссонирует с сологубовскими «гордыми стремленьями»:
| Пойми, что, робко плоть храня,
Рабы боятся запылать, – А ты иди в купель огня Гореть и не сгорать.
Из той купели выйдешь цел, Омыт спасающим огнем… Сологуб [16, с. 177]. |
Се – царь! Придите и поймите
Его спасающую сеть, В кипучий вихрь его событий Спешите кануть и сгореть.
Легко сгореть и встать иными, Ступить на новую межу… Гумилев [6, с. 206]. |
Но, несмотря на эту, на первый взгляд, очевидную гармонию, голос Гумилева всегда звучал по-особому, не сливаясь ни с экстатическими прозрениями Белого, ни с бальмонтовскими гимнами, ни с сологубовскими ожиданиями и влечениями.
Обращаясь к анализу «Пути конквистадоров», исследователи в первую очередь устанавливают взаимосвязи гумилевских текстов с символистскими «ориентирами» – пишут о преобладании символистской поэтики в «Осенней песне» [8, с. 124], о созвучии символики «Девы Солнца» с «Золотом в лазури» А. Белого (впрочем, происхождение данного гумилевского текста вполне можно отнести и на счет «бальмонтовских влияний: «Огонь появился пред взорами их, / В обрыве лазури туманной. / И был он прекрасен, и ровен, и тих, / Но ужас объял их нежданный» (Бальмонт [1, с. 120])) [9].
Аксиоматичной стала также и трактовка солнечной Девы как «Софии, апокалипсического знака божественного воплощения», как той самой «Жены, облеченной в солнце», о которой писали Вл. Соловьев и поэты — «соловьевцы». [6, с. 354].
Между тем, если присмотреться к гумилевской «деве» более пристально, то несложно заметить, что последняя, на самом деле, мало напоминает Вечную Женственность Соловьева и младосимволистов. Ведь поступки, на которые она своим явлением подвигла ожидавшего ее «царя», –
Но глянул царь орлиным оком
И издал он могучий глас,
И кровь пролилася потоком,
И смерть, как буря, пронеслась <…>
Гумилев [6, с. 48]
– вряд ли укладываются в рамки приписываемой Гумилеву христианско-эзотерической традиции. У Белого «царь» после встречи с «огнем» ведет себя все же несколько иначе. Отличие станет особенно заметным, если сопоставить следующий фрагмент одного из «первичных» текстов Белого с еще одним гумилевским произведением:
| О, мой царь!
Ты запуган и жалок. Ты, как встарь, притаился средь белых фиалок <…>
Затуманены сном наплывающей ночи на лице снеговом голубые безумные очи. Белый [3, с. 36]. |
Солнце катится, кудри мои золотя,
Я срываю цветы, с ветерком говорю. Почему же не счастлив я, словно дитя, Почему не спокоен, подобно царю?
На испытанном луке дрожит тетива, И все шепчет и шепчет сверкающий меч Он, безумный, еще не забыл острова, Голубые моря нескончаемых сеч. Гумилев [6, с. 84]. |
Выводы и предложения. Даже при беглом взгляде на приведенные фрагменты понятно, что если здесь и можно говорить о каких-либо перекличках, то (несмотря на достаточно очевидное лексическое сходство – общие «цветы» и «безумие») лишь в смысле противопоставления одного образа другому. Противостояние гумилевского лирического героя и «царя» Белого проявляется уже в самом начале в прямом отрицании Гумилевым любой возможности уподобления («…Почему не спокоен, подобно царю?»). Далее же поэт, намечая схему действий своего героя, все больше отходит от «образца». И дело не только в отсутствующих у Белого и «доминирующих» у Гумилева «мужественной интонации, волевом начале» [13, с. 11]. Мы полагаем, что коренное отличие выстраиваемых двумя поэтами систем отношений лирических героев с основными категориями своих художественных миров заключается все-таки не в акцентировании их активного или пассивного характера. Различие кроется, прежде всего, в абсолютно несхожей интерпретации авторами образа огня [7, с. 141]. Ведь если у Белого речь вновь идет, по существу, о гаснущем пламени – догорающем мире, который «затуманивается», становится «ночным» и «снеговым», то у Гумилева в центре всего происходящего по-прежнему находится «нескончаемое» сверкание. В дальнейшем имеет смысл рассмотреть к чему ведет сгорание и что выступает результатом данного процесса. Возможно доказать, что у символистов речь идет не о создании нового бытия или переходе в него лирического героя, то есть не об огне как о пути или средстве творения миров, а лишь о сделке героя с инфернальным силами, в результате которой «кое-что» теряется и «кое-что» приобретается. Таким образом, очевидно, что тот образ огня, который был создан в художественно-философском опыте русского символизма, не может считаться первоисточником гумилевского пламени. Различное происхождение, характер бытования в художественных мирах, различные цели и возможности не позволяют говорить о «вторичности» гумилевского огня по отношению к «кострам», «пожарам», «отблескам», «пламенеющим закатам» современников и предшественников.